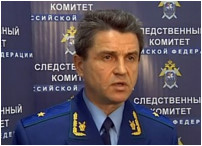В России сейчас тоже пытаются смягчить уголовное законодательство. Происходит это отчасти под влиянием Нильса Кристи, благо он часто приезжает к нам в страну, где ему удается очаровывать и ершистых правозащитников, и суровых прокуроров.

| Андрей Константинов Он всегда начинает выступление с отказа от микрофона. — Я не прогрессивный человек. Я думаю, что ответы на многие наши вопросы находятся позади нас, в прошлом, — с виноватой улыбкой говорит профессор Кристи. Слово «прогресс» он произносит со вздохом. Вскоре я понимаю почему: для него это понятие слишком тесно связано с постоянным, из года в год ростом численности населения тюрем. — Когда откуда-то уходит дух соседства, туда входит полиция. — Нильс Кристи говорит с нами очень ясно и просто, как с детьми. — Люди теперь часто переезжают с места на место и не знают своего окружения. Это заставляет в урегулировании конфликтов опираться на полицейские меры. В маленьком сообществе гораздо больше возможностей встречаться, договариваться, замечать друг друга. Очень важно, чтобы люди знали своих соседей, были связаны со своим окружением. Мне гораздо больше нравится соседский контроль, чем полицейский… Я ловлю себя на том, что при словах «маленькое сообщество» мне почему-то сразу представляется какая-то усредненная «станица Кущевская». Не знаю, что хуже — соседи или полиция. И, оказывается, не я один. — В России очень плохая ситуация с доверием людей друг к другу, — говорит Кристи. — По статистике она находится где-то в самом низу списка. Ваши трудности с самоуправлением, неспособность людей организовать свою жизнь без указаний сверху — это все связано со взаимным недоверием. Если бы у меня была еще одна жизнь, я бы переехал в Россию и убеждал бы людей доверять друг другу. Он и так часто здесь бывает и со страстью убеждает, несмотря на свои 83 года. — Кстати, единственный раз, когда на меня напали, был здесь: меня ограбили прямо на Невском проспекте, — радостно рассказывает профессор. — Я, конечно, разозлился тогда, но думаю, если бы мы познакомились с этим вором, оказалось бы, что это тоже вполне нормальный человек. Вот так, приезжает и учит нас, как жить. То ли русофил, то ли русофоб — похоже, и то и другое одновременно, как и мы сами. — Я его переводила и в президентском совете, и в Думе, и в колониях, — рассказывает Мария Арман, переводчик Нильса Кристи. — Помню, как-то в большой камере женщин-рецидивисток он сказал: «Здесь сидит больше женщин, чем во всей Норвегии». Он находит подход к самым разным людям, и люди меняются после встречи с ним. Он очень глубоко знает реальную жизнь. Я живу в своих страхах и пристрастиях, а он — в общечеловеческом. Старик нордической внешности с весело искрящимися глазами приехал из прогрессивно-либеральной Норвегии проповедовать нам ценности общины и традиции. У нас полиция всего несколько недель как существует, а он говорит, что она нужна лишь в обществе чужих друг другу людей, а свои как-нибудь сами разберутся. Наивный идеалист, еще один скандинавский сказочник. И сколько людей охмурил! К нему, словно к гуру, по очереди обращаются профессор юриспруденции, глава подмосковной комиссии по делам несовершеннолетних, представитель белорусского МВД. Зал полон его поклонниками — юристами, психологами, социальными работниками… Кристи — знаменитость. Может, и идеалист, но, говорят, это во многом благодаря именно его усилиям преступность в Скандинавских странах на порядок ниже нашей. В Норвегии всего три с половиной тысячи заключенных, да и те как-то уж очень либерально сидят. Во многих тюрьмах их отпускают днем на работу и даже на учебу в университет, а вечером они сами возвращаются. Заключенные должны быть готовы к свободе, должны найти себе дело по вкусу. Отсидевшим большую часть срока даже положены отпуска. Ведь главная задача скандинавской тюрьмы — ресоциализация, возвращение преступника в общество в качестве нормального человека, а вовсе не наказание. Но разве бандит не должен бояться тюрьмы? И почему простые труженики не требуют покарать злодеев? Хитрым скандинавам, может, и хочется покарать, но, видимо, еще сильнее хочется, чтобы у них было как можно меньше тюрем. А чего больше хочется нам?
Тюрьма как зеркало От тюрьмы у нас не зарекаются: по данным Центра содействия реформе уголовного правосудия, каждый четвертый взрослый мужчина в России имеет тюремный опыт. — Вы — страна, которая осуждает больше людей в пропорции к общему числу населения, чем любая другая нация в мире, за исключением американцев. В США 743 заключенных на 100 тысяч населения, у вас — 577. В России сидят в тюрьме 820 тысяч человек, в Штатах — больше двух миллионов. А в соседней Канаде совсем другой подход к наказаниям, уровень заключенных там такой же, как в самых культурных странах Европы. Кристи на память приводит статистику разных стран. Для него эти цифры отражают уровень культуры государства. Россия и Норвегия на разных концах этого списка. Зачем же нам нужна целая армия заключенных, которая стоит государству огромных денег и заражает все общество неизлечимым туберкулезом и криминальным сознанием? — Вы выбрали именно такой подход к решению проблем, возникающих при переходе от маленьких сообществ, где все друг друга знают, к большому сообществу, где все чужие друг другу, — объясняет Кристи. — Решать социальные проблемы, сажая людей в тюрьмы, — это старая русская традиция, окрепшая задолго до Советского Союза. Разве вы так уж отличаетесь от ваших соседей — финнов? Поверьте, они похожи на вас. Они тоже наследовали традиции царской России и до 60-х годов прошлого века у них был близкий к вашему уровень тюремного населения. Им это казалось естественным: холодно, пьют много, вокруг леса, народ дикий. Но им очень хотелось стать настоящими скандинавами. Кристи очень гордится тем, что в свое время обратил внимание финнов на гигантское количество заключенных: — Тогда, в начале 60-х, международной статистики не существовало. Я ездил по разным странам и собирал ее. И когда я на заседании Ассоциации уголовного права в Хельсинки выступил с такой речью, они были поражены, страшно всполошились и всего за несколько лет догнали другие Скандинавские страны, уменьшив тюремное население раз в пять. Поймите, такой вещи, как преступление, не существует. О чем в действительности говорит ваш уровень преступности, так это о вашей социальной культуре и о способах, которыми вы привыкли решать социальные проблемы. — И какие же проблемы мы решаем, отправляя людей в тюрьмы? — Тюрьма — это место для тех, кого общество выпихивает из своих рядов. Кто обычно попадает в тюрьмы? Это же почти всегда бедняки. Сильное имущественное расслоение ведет к очень большому напряжению в обществе. Социальные контрасты, безобразно богатые люди — это очень плохо для контроля над преступностью. Причем плохо всем. Преодоление гигантской дистанции между верхами и низами нужно не только бедным, но и богатым. Здоровье отдельных людей, средняя продолжительность жизни, количество заключенных, моральный климат общества, жестокость людей — все это напрямую связано с тем, насколько велик разрыв между богатыми и бедными. — Разве в США много бедных? — Конечно, там много очень богатых и много бедняков, особенно черных, которые наполняют тюрьмы, и большинство из них попадают туда из-за какой-нибудь ерунды вроде марихуаны или драки. Ситуация с марихуаной вообще постыдная, она подобна запрету противозачаточных средств католической церковью. Сейчас они постепенно приходят к тому, что запрет марихуаны себя не оправдал. — У нас тоже огромное число людей сидят за наркотики, в том числе просто за хранение и употребление. — Уголовное преследование наркоманов — это сумасшествие и нарушение прав человека. Мы много сражались, чтобы изменить антинаркотическое уголовное законодательство, провели ряд больших конференций. Мы должны регулировать оборот наркотиков, и очень жестко, но это вовсе не значит, что мы должны сажать потребителей в тюрьму…
Где кончается скамья подсудимых Преступления не существует. Наказание безнравственно. Как может профессор криминологии говорить такое? — Некоторые из моих коллег тоже очень на меня злы за эти утверждения, — с явным удовольствием говорит Кристи. — Но от страны к стране, из эпохи в эпоху понятие о том, что преступно, а что нет, меняется. Если мы обсуждаем плохой поступок, нам приходят в голову разные способы справиться с его последствиями: можно обсудить произошедшее, виновный может попытаться возместить ущерб, возможно, удастся достичь примирения с пострадавшими. А если мы рассматриваем это же деяние как преступление, остается лишь наказать преступника. Нильс Кристи начал беспокоить советских людей своими странными идеями еще в 1985 году, когда вышла книга «Пределы наказания». На самом деле она называлась «Пределы боли», но издатели сочли, что русский читатель решит: «боль» — это про медицину. В книжке очень доходчиво объяснялось, что наказание — это и есть причинение боли. По Кристи, судья — это тот, кому выдан мандат причинять боль. А профессора уголовного права должны именоваться «профессорами права причинять боль». У него свой метод проверять суть явлений: называть сложные вещи простыми словами. С тех пор он часто наведывается в Россию. Мы продолжаем «мочить в сортирах» своих «ублюдков», а он продолжает повторять: — Общество стремится уменьшить страдания и для этого прибегает к наказанию. Но наказать — это и значит причинить человеку побольше страдания, в этом цель и смысл наказания. Должно ли порядочное общество воздавать за дурное деяние той же монетой? — Вы говорите как проповедник… — Я не религиозный человек и не хожу в церковь. Я говорю о простейших, понятных всем ценностях, просто исходя из своего жизненного опыта. Мы должны уменьшить страдания.
«Не бывает злых людей» — Я лично знаю очень много убийц, но никогда не встречал монстров. Хочется сразу выкрикнуть: «А что вы будете делать, если встретите в темном переулке одного из этих убийц и грабителей, которых защищаете?» — Моя жена Хедда — она тоже криминолог — десять лет потратила на изучение одного отчаянного рецидивиста. Его считали чуть ли не самым опасным человеком в Норвегии, настоящим чудовищем. Он был из бродяг — цыган, кажется. После очередного срока за убийство — у нас они сравнительно короткие — он выходил и тут же убивал кого-то снова. Но потом он встретился с Хеддой, которая пыталась понять, почему он так поступает. Его привели два охранника, он был закован по рукам и ногам — так его боялись. Они много общались, а когда его отпустили, Хедда ездила к нему, останавливалась в его доме на ночь. Ее спрашивали: «Вы не боитесь?» Она отвечала: «Нет, наоборот, если что случится, он меня защитит». Может быть, впервые в его взрослой жизни к нему кто-то отнесся по-человечески. И он перестал совершать преступления. Такая вот идиллия. А если бы он ее убил? Может, все-таки лучше сажать за убийство на всю жизнь — и нет проблемы? Это же справедливо: око за око. Правда, я слышал, что этот древнеарамейский принцип означает не то, что вас надо лишить зрения, если вы лишили зрения кого-то, а то, что вы должны стать поводырем. Нильс между тем все хвалится своими знакомствами: — У меня много друзей с нехорошим прошлым, но если бы они были здесь, я не стал бы их вам представлять: вот этот — грабитель, а этот — убийца. Чтобы уменьшить число злодеяний, вместо навешивания этих ярлыков мы должны рассказывать истории их жизни, понять их. — Что же, злодеев не существует? — Существуют, конечно, мерзкие поступки, гнусные человеческие черты. Но нет злых людей. Просто какой-то булгаковский Иешуа. Для него каждый — «добрый человек». — Но бывают же хрестоматийные подонки — те же нацистские преступники? — Если вы превращаете нацистов в чудовищ, это простое и понятное объяснение концентрационных лагерей, но это и шаг к ним: ведь чудовища должны сидеть в концлагерях или их подобии. Но если вы видите каждого из них как одного из нас, тогда перед вами встает совсем другой вопрос: что за система заставляет людей создавать концентрационные лагеря? С концлагерей все и началось. В 1949 году юный Нильс, учившийся на социолога, по просьбе своего профессора беседовал с бывшими охранниками концлагеря — норвежцами, работавшими на фашистов и нередко убивавших сидевших под их присмотром сербов. Его заинтересовало, чем охранники, жестоко обходившиеся с заключенными, отличались от тех, кто не принимал участия в издевательствах и убийствах. Тогда-то он и понял простую вещь, определившую его дальнейший интеллектуальный поиск: убийцы, считавшие пленных опасными недочеловеками, грязным быдлом, никогда не общались с ними. Те же охранники, с которыми сербам удавалось хоть раз поговорить, несмотря на разделявший их языковой барьер, или показать фотографии своей семьи, начинали видеть в них людей и уже не могли их убивать. Кристи любит вспоминать рассказ одного из заключенных, сумевшего немного выучить норвежский с помощью найденного им словаря. В плену он вкалывал на дорожных работах и однажды услышал, как один из охранников попросил у другого спички, а тот ответил, что у него нет. Тогда этот серб произнес по-норвежски: «У меня есть спички». Позже он говорил, что эта фраза спасла ему жизнь: охранники поняли, что перед ними человек — такой же, как они. Когда Нильс стал криминологом, он уже знал, что главная идея, которую он понесет в мир, — та, что жестокость можно предотвратить, если сблизить людей. Даже если эти люди — преступник и жертва.
Восстановление вместо возмездия — Идея, которая нас объединяет, — уменьшить страдания, — говорит Кристи на конференции по восстановительному правосудию и медиации, проходящей в стенах Московского городского психолого-педагогического университета. Его аудитория — съехавшиеся со всей России медиаторы — люди, помогающие разрешать конфликты. Для них он — великий мудрец и учитель. Медиация — один из главных механизмов восстановительного правосудия, той альтернативы карательному правосудию, которую создают и отстаивают Нильс Кристи и его единомышленники. Они рассматривают преступление как конфликт, который часто, хотя и не всегда, можно разрешить, загладив вину, возместив ущерб, примирив стороны. Медиаторы выступают как посредники при встрече сторон конфликта. Встреча — центральное событие в процессе восстановительного правосудия, она дает участникам конфликта шанс объяснить свои позиции и понять чувства друг друга. Кристи словно родился медиатором: у него талант внимательно прислушиваться к людям и к себе. — В медиации процесс важнее результата. Результат может быть тот же, что и в суде, например решение о компенсации — это могут быть деньги или работа на потерпевшего, — рассказывает Хедда Герцен, профессор криминологии и по совместительству жена Нильса Кристи. — Но может быть и особый результат — примирение. Это очень большое событие, хотя внешне ничего особенного не происходит: они просто пожимают друг другу руки. Но как часто этот случай имеет для их жизни огромное, неизмеримое значение! В Норвегии восстановительное правосудие — это норма жизни. Большая часть мелких преступлений не наказывается тюрьмой. При каждом местном органе власти действует конфликтный совет, в котором работают медиаторы. Если стороны конфликта договариваются, уголовное дело закрывается. В прошлом году в Норвегии было 9000 случаев, переданных полицией медиаторам, — это притом что все их тюремное население составляет 3500 человек. — То, что могло стать девятью тысячами преступлений, стало девятью тысячами попыток понять друг друга, — говорит Нильс. — Кто придумал медиацию? — Разрешение конфликтов — это очень древняя традиция. В старые времена собирался совет всех, кто имеет к этому отношение, и пытался разрешить конфликт. Если у вас нет большого централизованного государства, вы просто должны найти другие способы разрешения конфликтов. Я видел это у маори в Новой Зеландии, у аборигенов Австралии. Я видел, как индейцы в Канаде передают друг другу белое перо и говорят по кругу — никто не может перебить говорящего. И ярость уходит. — В каких случаях медиация подходит как метод работы? — Надо пытаться использовать ее как можно чаще. Если вы спрашиваете про убийства — вполне подходит. — Но что тут восстанавливать? Нельзя ведь воскресить убитого человека. — Да, «восстановление» — не всегда подходящее слово. Может быть, мы пытаемся восстановить основные человеческие ценности. — Зачем проявлять снисхождение к убийце? — А если бы преступником был ваш сын, вы бы не хотели, чтобы мы проявили к нему человечность? Конечно, существуют и ужасные деяния, которые должны наказываться уголовно. Нам нужна уголовная система — медиация не универсальна, но эта уголовная система должна быть как можно более человечной. Она не должна быть монстром, как в России или в США. — Что должен сделать медиатор, чтобы устранить ненависть? — Просто встретиться с участниками конфликта и увидеть в них людей. Есть конфликты, которые невозможно разрешить. Даже если участники конфликта согласятся на встречу, не обязательно в результате нашей работы они пожмут друг другу руки и преступник раскается, а пострадавший простит его. Но, пусть они хоть что-то поймут друг о друге, хоть немного услышат друг друга. Встреча может помочь совершившему злодеяние человеку взять на себя ответственность за свой поступок, понять мотивы своих действий — это важные шаги к исправлению. — Ну а если злодей говорит: «Я раскаиваюсь, хочу участвовать в медиации», — просто потому, что не хочет в тюрьму? — Пусть приходит, начнем процесс медиации и посмотрим, что получится. — А если они не хотят участвовать в медиации? — Тогда мы ничего не можем сделать. Хотя норвежские власти очень хотят сделать этот процесс принудительным. России до Норвегии далеко. У нас медиация — редкость. Иногда ее используют, когда речь идет о правонарушениях несовершеннолетних. У взрослых практически нет шансов на восстановительное правосудие. А Нильс Кристи тем временем отправляется дальше — из города в город, из аудитории в аудиторию, чтобы вновь и вновь повторять: «В чем суть наказания? Это причинение другому боли. Мы должны четко осознавать, что и зачем мы делаем, когда наказываем». Все, кто его знает, говорят о нем, как в секте говорят о гуру. Я теперь тоже: по-моему, он просветленный или вроде того. |